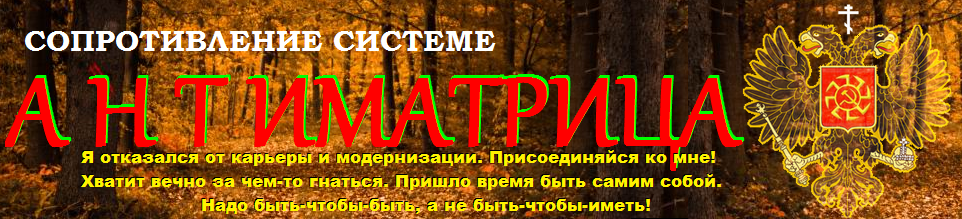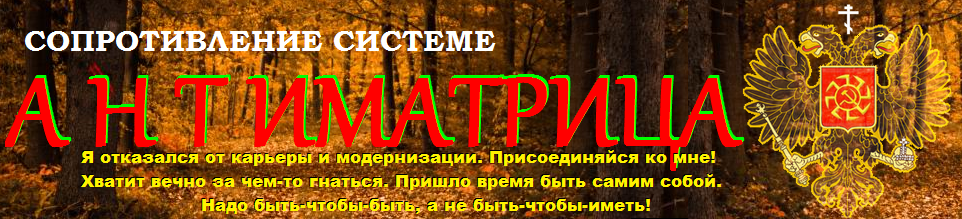Смотреть на сухие листья. Коричневые тёмные сухие листья. Топтать ногами эти листья.
Топтать землю. Сидя на лавочке в осеннем парке, плюнь на землю. Поскреби ногтем
зелёную краску деревяшки. Где-то суета сует. Всё суета, как сказал Екклесиаст.
Строятся многоэтажные дома – бесконечной высоты многоэтажные дома. Архитектура
– в стиле постмир. Постмир – поствсё. Архитектура в стиле посттоталитаризм.
Архитектура в стиле демократия. В стиле постмодерн. Стиль постмир. Стиль
постчеловек. Постчеловеческие норы-соты. Биоячейки. Строятся многоэтажные
биоячейки.
Белое
небо бесконечно. Бело-лёгкосерого цвета небо уходит ввысь без границ. Ему нет
границ. Нет границ горести.
Мёртвая бабочка в замёрзшей земле
Оборванное тело в иссохшей траве
Время покинуло нас
Небо смотрит на нас.
Видно
копошение. Виден бег. Видны дела – самые важные дела. Важнее их нет ничего на
свете. Все в делах.
Платоновские
диалоги ушли в прошлое. Когда-то учили великие мудрецы. Степенные мудрецы с
ясными глазами, седыми пышными бородами, тяжёлыми спокойными ладонями. Мудрецы
неспешно рассуждали о мире и человеке, о героях и богах.
Теперь
речи мудрецов изданы в книгах, а книги оцифрованы. Цикл закончен – книги
оцифрованы. Мысли оцифрованы. Мудрецы оцифрованы. Они сделали своё дело – теперь
они оцифрованы. Дань памяти мудрецам отдана – человечество поклонилось им,
прослезилось, восхитилось, поставило им памятники и оцифровало их. Теперь все
знают о мудрецах и героях – в кратком изложении.
Но
не все оцифрованы. Кто-то ещё жив – это недомудрецы. Они ещё неспокойны, с
мутными глазами, ещё без бороды, ладони дёргаются, пальцы мнут бумагу и
выбрасывают её – сильный ветер подхватит её и унесёт – и бросит в сухой
безводный фонтан. Ведутся платоновские диалоги на отшибе:
- Расскажи мне о человеческой цивилизации…
- Человечество похоже на муравейник, выросший
у подножья вулкана. Муравейник может расти бесконечно, но никогда он не
вырастет до высоты вулкана. Муравьи могут размножиться до необъятной
численности. Они могут обосновать своё право на величие. Муравьи могут работать
ради своих маток. Защищать своих маток. Плодить свои личинки. Муравьи могут
жить горестями и радостями, и находить, собирать, приносить хлебные крошки в
свои каморки. Они могут обосновать собственную центральность в Мироздании. Они
могут провозгласить себя мерой всех вещей. Они даже могут доказать отсутствие
вулкана, на чьей почве выстроена вся их смешная постройка. Есть муравейник –
центр мира, а в нём муравей – пуп земли. А вулкана нет. А эти лёгкие подземные толчки,
волнующие копошащуюся горку муравейника – это просто следствия глобального
потепления климата. Это экономический кризис. Это недостаточная прозрачность
институтов власти. Недостаточная. Прозрачность. Прозрачность личинок –
недостаточная. Нужно больше витаминов. Целлюлит – заставляет задуматься. Я хочу
фитнес. Фитнес. Я хочу пить обжигающие напитки. При подписании ассоциации с ЕС
иномарки станут на 10 процентов дешевле. Вулкана нет. А эти лежащие в руинах
стеночки и всё нарастающие толчки – это недостаточная активность рынка.
Недостаточная прозрачность кредитных схем. Муравьиных схем. Схем фитнеса.
Вулкана нет. Человечество похоже на муравейник.
- Расскажи мне о том, что ты видишь…
- Я вижу пир. Я сижу далеко в стороне от стола
– и на меня никто не обращает внимания. Я сижу возле окна – и изредка
поглядываю на улицу, а так – слежу за тем, что творится на пиру. Творится
поедание. В комнате душно, жарко. Вся комната забита людьми – до отказа забита,
а дверь ведь открыта – и втискиваются всё новые и новые посетители. За огромным
длинным столом расселись люди – сидят жирные, потные, лоснящиеся – и жадно,
прямо руками, запихиваются едой. Еды не убывает на столе – а он доверху ею
завален. И еда падает со стола. К столу лезут другие люди. Они давят друг друга,
толкают – но далеко не оттолкнуть – нет свободного места. Здесь не упасть. А
люди лезут к столу. Из толпы вырываются дрожащие руки, выхватывают у жирных еду
прямо изо ртов, и, уже надкусанную и обслюнявленную, запихивают себе в рот.
Хватают жирных за волосы, за глотки, за потные воротники – рвут их одежду,
пытаются выбить из-под них табуреты. А сзади напирают другие – и вырывают еду
уже у этих – и кусают их, и бьют… Какой-то старик умирает от сердечного
приступа – но он не может упасть – и он стоит мёртвый, а его продолжают душить
и пинать. Из старческого полуоткрытого рта торчит кусок еды – кто-то вырывает
его, и суёт себе в рот… Со стола падает еда – к ней тянутся жадные руки,
хватают её, вырывают друг у друга. Кто-то ползает под столом – и подбирает куски,
выпавшие у жирных изо ртов. Жирные бьют и давят ногами ползающих. А люди всё
прибывают… Они пытаются влезть на спины, на головы, на плечи друг другу – и
влезают, и получается башенка из машущих руками тел. Башенка падает – на тех,
что снизу – и ломаются шеи, бьются головы. А люди таращут глаза и рычат,
вымазанные кровью и слюной, они жадно тянут руки – и мнутся, давятся, толкутся
– а еда наливается сальным жаром.
Я
сижу возле окна, поглядываю на улицу. Там уже темно – ночь. По-моему, там
всегда ночь. Я вижу пейзаж – голый, поросший сорняком пустырь; дальше – лес –
чёрный, еловый; дальше – невысокие горы, все поросшие лесом. Всё это в неярком
лунном свете. Небо – глубоко-чёрное, словно затянутое мглой. Нет ни одной
звезды. Только луна – бледно-белая, неполная – половина луны. Вокруг неё –
беловато-серый туманный ореол. Луна плавно движется по небу – ореол гаснет, его
поглощает мгла. И сама луна теряется, заволакивается тьмой – только совсем
немного блестит – тихо-белым из тоскливого чёрного неба. Ещё немного – и она
совсем пропала. Только на том месте, где она была – небо чуть светлее – там
застыла сероватая дымка. А я смотрю и смотрю – снова появляется луна, снова
светит – теперь уже ярче – чистым серебром, а затем – снова исчезает. И так –
раз за разом. Отрываюсь от окна – в комнате продолжается пир. Всё хорошо.
Стабильно продолжается пир…
- Расскажи мне, кем ты себя чувствуешь…
- Я чувствую себя жёлтым сухим листом. Ветер
носит меня и швыряет без конца. Он швыряет меня на дорогу – меня закружит там,
завертит – раздавит колесом, а мне ничего. Меня будет бить, кидать, давить – а
мне ничего. Но однажды ветер бросит меня в тёмную холодную лужу – и уж там я
сгнию.
Покинутые листья в холодной воде
Мокрые листья в осенней воде
Забытые листья в мёртвой воде
В безлюдном заброшенном углу
Корявые серые ветви
Несчастные сиплые ветви
Тянутся к небу – изо всех своих сил
Из последних надорванных жалких сил
Тишина – в безлюдном потерянном углу
Только холодно – пробирает ветер
И осыпает листья в воду.
- Я чувствую себя не так. Я – по-другому. Я –
ночью в горах, сижу на выступе скалы – и смотрю. Подо мной – лес, за ним –
пустырь. А дальше – большой дом, вроде как придорожный трактир. Дом словно
пышет жаром изнутри – я знаю, что там идёт великий пир. Окна слепо горят оранжевым
пламенем. Но я знаю, что у одного из этих окон сидит человек, и смотрит на
пустырь, лес и горы. Но он не видит меня. Потому что это невозможно – увидеть
ночью крохотную человеческую фигуру в далёких горах.
- Ты много странствовал?
- Да, я расскажу тебе об этом. Я встал ни
свет, ни заря. По полям, по лесам полз белый туман. Я шёл по грунтовой дороге –
всё время прямо. Глядел по сторонам. Среди степей стояли каменные идолы –
грубо-обтёсанные, мрачные, серые, мшистые. В заросших лесом балках почивала
мгла. Небо было холодное и серое. Я шёл очень долго – и ни одной живой души.
Поднимался я на гору – по очень узкой крутой тропке. И на перевале увидел
тощее, безлистое, истрёпанное всеми ветрами деревце. На его дрожащих ветвях
трепыхались ленточки-тряпочки – выцветшие и жалкие. Я оторвал от своей рубахи
лоскуток – и привязал на веточку. Рубаха моя была красная – и на деревце
развевалась яркая красная ленточка. Пошёл я по горным тропкам – кругом скалы,
мох, кривые деревца, колючие кусты, пожухлая трава. Случайно нашёл в горах
древнюю полуразрушенную башню. Окно у неё было выбито в форме креста. Я зашёл
внутрь – в башне было пусто и темно. Только из окна-креста падал бледный
осенний цвет. И я увидел на стенах остатки росписей – лучше всего сохранилась одна
– всадник в алом плаще, на белом коне, пронзающий копьём дракона… Краски уже
давно потускнели, стали грязными, тёмными – но я так и видел этот плащ
ярко-красным, алым как кровь. А конь – белоснежный, как свет. Так мне
запомнилось.
Пошёл
я дальше. Спустился с гор – и попал в лес. Тёмный лес, тропки узкие, и
теряются, исчезают, ведут – совсем не туда, куда ты хочешь идти. Привела меня
такая тропка на поляну – трава там проросла тёмно-зелёная, почти чёрная. На
поляне – изгородь из грубо тёсаных брёвен-кольев. На кольях то тут, то там –
черепа человечьи, лошадиные, и ещё какие-то причудливые – огромные,
криво-бугристые, с витыми рогами. Ворот не было видно. Я подошёл, глянул в щель
между кольями – за оградой хилый домишко, весь чёрный, словно обожжённый. Ставни
наглухо закрыты, дверь покосилась. Я пошёл себе обратно по тропинке, не
оглядываясь.
Вышел
из леса – увидел широкую булыжную дорогу. По ней дошёл до большого города.
Город приморский, порт. В гавани на пристани – бесчисленное множество кораблей.
Сгружается и разгружается товар, люди везде бегают, суетятся – толчея. А море
спокойное, тёмное и холодное. И тянется бесконечно – до горизонта и дальше. Я
боюсь этой пучины, я перед ней теряюсь. В тот день отплывал корабль –
неизвестно куда. Я уплыл на нём. Плыли мы долго по глубокому тихому морю – но
берег всегда было видно. Однажды мы пристали у небольшой рыбацкой деревни. Я
купил там копчёную рыбу. Рыба была вкусная – розово-красное мясо в коричневой
корочке застревало в зубах. Я съел рыбу и пошёл по холодному светлому песку. С
моря дул очень сильный, свежий, солёный ветер. Я шёл долго, пока не попал в
лес. Лес был весь в опавшей листве, спокойный и светлый. Тропка вела всё время
прямо. Когда я вышел по ту сторону леса, то был уже почти дома. Возвращался я по
утренним грязным улицам, оглядывался по сторонам – и мне было приятно видеть
всё это – я давно здесь не был. Дома я спал и видел странные сны – непонятные,
но приятные – не страшные. Не люблю страшные сны…
- Что тебе снилось тогда? Когда ты вернулся…
- Помню, снится мне, что я еду ночью в
небольшом автобусе. Снаружи будто бы идёт дождь, завывает ветер. Внутри –
темно, только тускло горят лампочки. Людей в автобусе немного – все сидят,
обыкновенные люди, обыкновенный автобус. Напротив меня – через проход, на
сиденье, что у окна – сидит девушка. Вся промокшая до нитки. Светловолосая, в
тонкой кофточке – вся мокрая. Она дрожит от холода. Промокшая до нитки. А на
мне такая толстая чёрная куртка. Я снимаю её и накидываю девушке на плечи,
закутываю её. Всё молча. Сижу рядом с ней. А автобус едет, и снаружи идёт дождь
и воет ветер.
Вот
что я помню. Ещё мне часто снятся сны про войну. Ты воюешь?
- Да, я веду подпольную войну. Войну против
всего подряд и за всё подряд. У меня есть генеральная линия, есть атакующий
курс – и я хочу следовать ему в любых условиях. Сегодня я один, завтра нас
двое, послезавтра нас – сотня, через неделю – я снова один – это без разницы,
это не имеет значения. Генеральная линия остаётся прежней. Условия внешней
среды не влияют на атакующий курс. Он – нож, он – лом, он – шариковая ручка, он
– крест. Я жажду действия. Слово – это явление идеи в мир. Её уже можно ощутить
на слух. Ещё маленький шаг – и её можно будет потрогать руками. Я хочу выжать
из себя самого все соки, и ходить шатающимся тощим ничтожеством – чтобы слово
наливалось силой. Чтобы колоколом. Чтобы пламенем…
Но
странное и невыносимое ощущение возникает иногда – меня становится всё меньше.
Я теряюсь. Я немножко исчезаю. Наверное, я так прячусь. Я так неосознанно ухожу
в подполье. Значит, так надо.
- Чего ты боишься?
- Я боюсь тления. Медленного и полного
опустошения, угасания. Я этого боюсь.
Тяжело выдавить из себя хоть что-то
Все слова потеряли смысл,
Стали бесцветными, тусклыми
Невыносимая тоска и пустота –
И что-то рвётся, но не находит выхода
Мечется огонь, мечется испуганная искорка –
Ей нет здесь места,
Она
прячется и боится
Она безысходно стонет, кричит
И не находит себя –
Все чувства побледнели, сникли,
Стали неестественными –
Что-то обрывается везде…
Тяжко сказать – слова тусклы и избиты
Невыносимый зуд, как вязкий пластилин
Как тоска, как безысходность
Как унылые бесполезные дни –
Так хочется всё сказать…
- Что тебя гнетёт?
- Это резервация. Резервация здесь. Когда я
еду в маршрутке по утрам, я смотрю в окно, смотрю на людей. Они живут. Это
схема бытия. Это резервация.
«…Вот это день
обычный – оттого и страшный
День как день
– вот он весь
Кто виноват,
что резервация здесь
Кто виноват в
том, что резервация здесь?»
(«Банда Четырёх»)
- Назови полярные оппозиции…
- Я иду по улице. Реклама. Разрисованные
стены. Плакаты с диджеями. Диджеи предлагают лучше. Всё лучше и лучше – это
предлагают диджеи. Это танцы. Блики силиконового мёртвого света. Искусственный
больной пот. Синтетическое расслабление. Диджеи предлагают фитнес. Диджеи
предлагают бытие. Бытие – это фитнес. Диджеи предлагают фитнес-программу. Она
называется «туц-туц-туц». Музыка сфер – апогей экспансии диджейства – это
«туц-туц-туц», это синтетика света, это цветная вонь.
Диджеи
предлагают с плакатов. Они поджидают. Диджеи. Есть две стороны. Поджидание
диджеев – одна.
Другая
сторона – холод неба. Блекло-белое небо бескрайнее. Там нет ничего. Только
белое и холодное – всё. Там ничего нет. Там – всё. Лёгко-серый,
бесконечно-холодный купол, который горюет по нам. Небо.
За
диджеев, в бессильно-потном чаду фитнеса, под туц-туц-туц. Или за небо. Вот моя
полярная оппозиция. Белый полюс. Мой Сакральный Север. Моё небо.
- Грохот поездов в тумане. Ничего не видно –
только слышен мерный бесконечный грохот поездов в тумане. Деревья растут,
деревья тычут ветками в туман. Их корни спят в земле. Спокойно и сурово спят в
твёрдой земле. Листья горами – сухие бурые и жёлтые листья. Думать обо всём
подряд. Неспешно думать. Таскаться по улицам и думать. Проходить в очередной раз.
Снова и снова – ходить на холоде и думать. Оборванные объявления на водосточных
трубах. Недостроенные здания. Огромные мёртвые здания в стекле. Там дует ветер
– сильный и холодный ветер. Деревья растут. Большая спячка деревьев. Спящие
корни. Им снится снег. Тепло в снежных сугробах. Тепло в твёрдой земле. Сон
корней. А мы с тобой говорим. Нам никогда не заснуть. Мы будем молча таскаться
по улицам и думать обо всём. Как я люблю думать…
Ведутся
платоновские диалоги на отшибе. Многоэтажные дома уныло торчат тупыми
гробинами. Стиль постмир. Самовоспроизводство суеты. Что тебе до неё. Нужно
просто смотреть на сухие листья. Смотреть на брошенные холодные сухие листья.
Ослик Иа
|